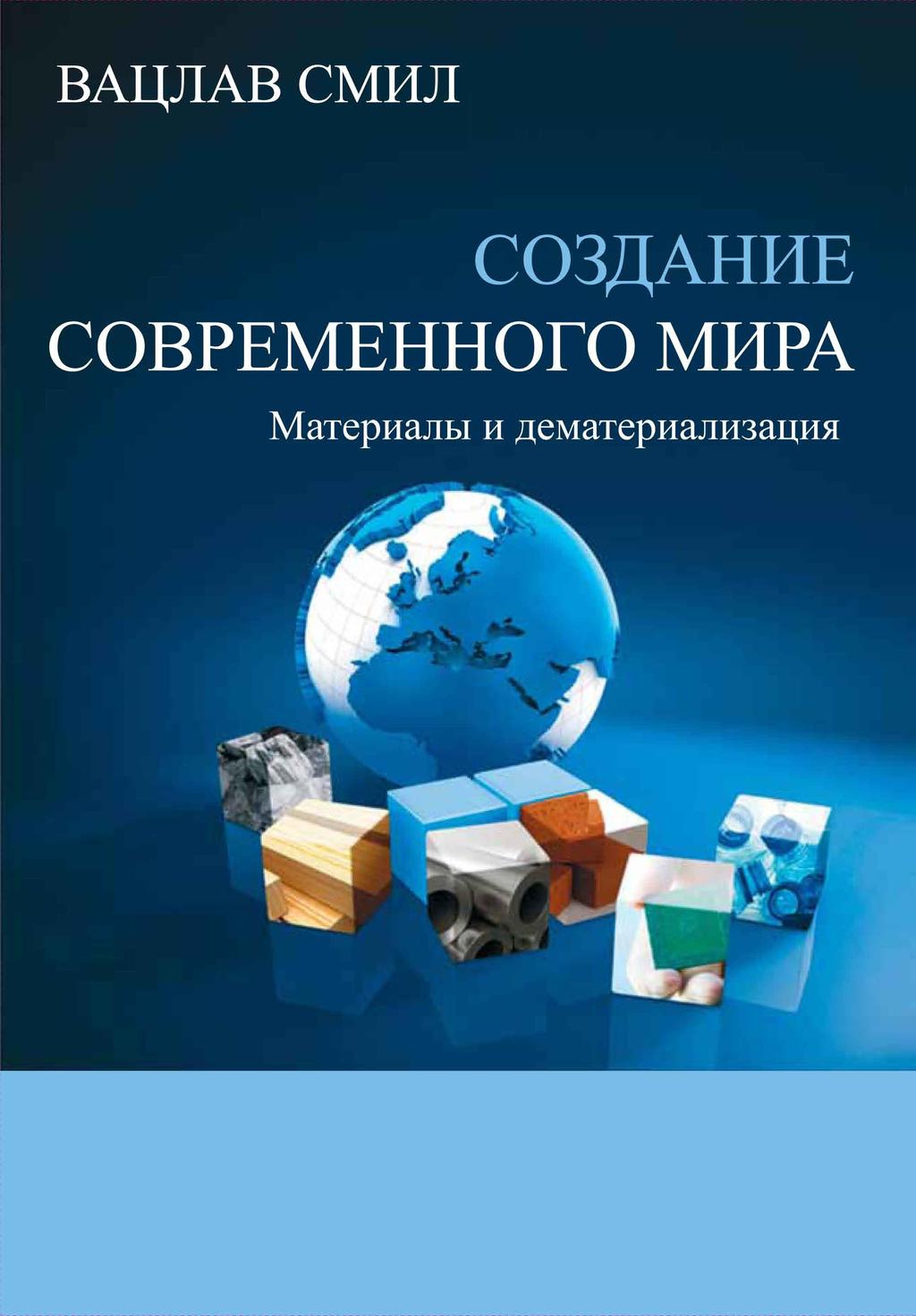Модернизация в Китае началась с того, что Дэн Сяопин аннулировал действовавшую на протяжение долгого времени автаркическую политику Мао, во многом ставшую причиной величайшего голода в истории (1959–61) и трех десятилетий массовой бедности. Реформы набирали обороты с 1980 по 1985 год, однако затем приостановились из-за массовых протестов и убийств на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Но хотя эти события вызвали откат назад в сфере прав человека, экономический рост значительно ускорился в 1990-х гг.; набранный темп удавалось поддерживать в течение всего первого десятилетия ХХI века. Фактический рост был ниже представленных в официальной — и сильно завышенной — статистике, но все равно превысил пиковые относительные показатели роста японской и южнокорейской экономик. Оглядываясь назад, мы теперь ясно видим, что за три десятилетия после 1980-х гг. Китай пережил не только самый быстрый, но и самый большой экономический рост в истории. Согласно официальной статистике, с 1980 по 2010 год ежегодный прирост в экономике Китая лишь трижды опускался ниже 5% (в 1981, 1989 и 1990 гг.), при этом 16 раз превышал 10%, а в среднем за три десятилетия составил 9,6% в год. Таким образом, каждые 7,3 года экономика Китая удваивалась, и ВВП 2010 года должен был быть в 17,8 раза больше, чем в 1980 году (в постоянных ценах). При расчете на душу населения увеличение оказывается 13-кратным (NBSC, 2013; IMF, 2013). По официальным курсам обмена валют значения ВВП составляли порядка 200 млрд и 5,9 трлн долларов (в текущем выражении), если пересчитать по паритету покупательной способности (ППС), то эти цифры увеличиваются до 250 млрд и 10,1 трлн. В 1980 году экономика Китая (по ППС) была равна половине экономики Италии; к 2010 стала крупнейшей в мире, более чем двукратно превосходя японскую (IMF, 2013). Это беспрецедентное достижение легче понять, если рассматривать его в первую очередь как сочетание нескольких факторов: огромное и сдерживаемое прежде желание жителей самой населенной страны мира, десятилетиями живших в нищете из-за маоистского подхода к экономике, повысить свой уровень жизни; значительный прирост населения в сочетании с отложенной урбанизацией, по итогам которой миллионы молодых и трудоспособных рабочих вырвались из деревень в города, став движущей силой роста и создания новых производственных мощностей, благодаря которым страна вскоре превратилась в крупнейшего экспортера в мире; огромные прямые иностранные инвестиции, ежегодный объем которых с середины 1980-х гг. составлял более 50 млрд долларов, а также беспрецедентные масштабы внедрения современных технологий добычи, производства и транспорта — идеальный пример того, какие преимущества открываются у стран, позже других начавших процесс индустриализации. С учетом того, что пост-маоистский рост начался с относительно низких показателей (в 1980 году ВВП Китая на душу населения составлял всего 250 долларов — меньше, чем у Пакистана), следовало ожидать многократного увеличения материальных потоков, без которого экономика страны не смогла бы удвоиться четыре раза за тридцать лет; кроме того, очевидно, что внутренних ресурсов Китая было бы недостаточно для такого роста, а значит, стране приходилось в значительной степени полагаться на импорт. Поэтому неудивительно, что расходы некоторых материалов росли гораздо быстрее, чем ВВП. Получив статус ведущей промышленной державы мира, Китай также стал крупнейшим импортером сырьевых товаров от железной руды до калийных удобрений. Строительный бум, наблюдавшийся в Китае после 1980-х гг. — самый масштабный и быстрый с точки зрения постройки нового жилья, новых промышленных и коммерческих объектов, новой инфраструктуры — создал беспрецедентный спрос на все строительные материалы. По приблизительным оценкам внутренняя добыча строительных материалов увеличилась с 1980 по 2010 год в 25 раз, практически утроившись за первое десятилетие XXI века (SERI, 2013). Примерно такой же рост отмечен в выпуске двух основных производимых строительных материалов — цемента (как компонента бетона) и листового стекла. Бешеные темпы «бетонирования» Китая и общие ее масштабы поражают. В 1980 году в стране было произведено чуть меньше 80 миллионов тонн цемента, десять лет спустя — примерно 210 миллионов тонн, к 2000 году этот показатель вырос до 595 миллионов тонн в год, к 2010 году утроился и составил 1,88 миллиарда тонн (почти в 24 раза больше, чем в 1980 году; 57% общемирового производства при менее чем 20%-й доле от мирового населения), затем увеличился до 2 миллиардов тонн в 2011 году (NBSC, 2013). Пожалуй, самой лучшей иллюстрацией таких масштабов является следующее сравнение: в США за весь XX век было израсходовано примерно 4,56 миллиарда тонн цемента, а вот Китай всего за три года (2008–2010) потратил больше цемента на возведение новых объектов (4,9 миллиарда тонн), а с 2009 по 2011 год было потрачено еще больше: 5,5 миллиарда тонн (NBSC, 2013). Очевидно, что при таких темпах строительства заливаемый бетон по большей части будет низкого качества. Этот вывод подтверждается явным обветшанием бетонных сооружений в Китае, возведенных в конце 1980-х и начале 1990-х, то есть во время первого строительного бума в Китае. Качество бетона, идущего на строительство многих новых плотин в Китае (к 2010 году было возведено более 87 тысяч таких сооружений самых разных размеров, включая крупнейшую в мире плотину Санься), вызывает беспокойство, особенно в свете того, что тысячи подобных плотин расположены в сейсмоопасных зонах. Даже если бы первоначальное качество не оставляло желать лучшего, опыт США с обширной бетонной инфраструктурой заставляет переживать за Китай и его будущие проблемы. Проблемами производства листового стекла являются низкое качество и чрезмерные масштабы; с 1980 по 2010 год количество ежегодно выпускаемого стекла увеличилось в 25 раз с 25 до 630 миллионов ящиков или с 1,25 до 31,5 миллиона тонн (NBSC, 2013). В 2010 году в Китае было изготовлено 60% всего израсходованного в мире стекла (55 миллионов тонн); производительность его стеклодельных предприятий возросла с 6,5 до 44 миллионов тонн в год; из-за этого средней коэффициент использования производственных мощностей по отрасли снизился до 70%, в результате чего был изменен порядок регламентирования строительства новых заводов (China Daily, 2011). Более того, большая часть этих избыточных производственных мощностей расположена на энергоемких и сильно загрязняющих окружающую среду предприятиях; они выпускают примерно 20 миллионов тонн стекла — почти две трети общего объема производства, — но это некачественное флоат-стекло (Pilkington, 2010). Сталелитейная отрасль Китая росла практически вместе с его ВВП: производство необработанной стали выросло в 17,2 раза с 37,1 миллиона тонн в 1980 г. до 637,4 миллиона тонн в 2010 г., что составило почти 45% от всей выпущенной в мире стали (WSA, 2013). Но так как добыча железных руд выросла всего в 14 раз (с 75 тысяч тонн до 1,07 миллиарда тонн), все большая доля китайской стали производится из импортного сырья. В 2010 году Китай импортировал 618 миллионов тонн железной руды — более трети общего расхода доменных печей; таким образом, он со значительным опережением занял первое место по импорту железной руды, закупив почти 60% всего железнорудного экспорта в мире и покрыв таким образом около 70% внутреннего спроса; основными поставщиками стали Австралия и Бразилия. И хотя Китай является практически монополистом в экспорте редкоземельных металлов и основным экспортером молибдена, магния и графита, он также лидирует в импорте бокситов: 44 миллиона тонн в 2010 году; в том же году Китай закупил почти 1,2 миллиона тонн медных руд и концентратов. Единственным основным строительным материалом, производство которого возросло незначительно, является промышленный круглый лес; объем его заготовки за три десятилетия увеличился менее чем на 30%, с менее 80 до примерно 102 миллионов м3 (FAO, 2013). Масштабное обезлесение Китая до прихода коммунистов к власти, неправильный подход к ведению лесохозяйственной деятельности в оставшихся естественных лесах, а также массовые кампании по лесовозобновлению, приведшие к неправильному (только в высоту) росту нескольких массово высаживаемых пород деревьев (сосны и эвкалипта) — все это объясняет недостаточные внутренние поставки древесины, из-за которых с 1980 по 2010 год пришлось учетверить импорт (с чуть более 8 до 35 миллионов м3 ). Основным поставщиком стала Канада, росла доля древесины из Африки, что внесло свой вклад в уничтожение тропических лесов на этом континенте (FAO, 2013; Smil, 2013). Но наибольший прирост наблюдался в сфере синтеза пластмасс, объем которого увеличился с 1980 по 2010 год почти в 70 раз. Конечно, в основном это связано с быстрым развитием практически с нуля (в 1980 году выпущено менее 900 тысяч тонн), однако в абсолютном выражении производство пластмасс в 2010 году составило 62 миллиона тонн, что превысило показатель ЕС-27, равный примерно 57 миллионам тонн (Europe Plastics, 2011). Наконец, необходимость обеспечивать продовольствием все еще растущее население, а также улучшить рацион жителей привела к существенному росту производства и импорта удобрений. Были внедрены новые установки Габера-Боша, что позволило нарастить производство азотных удобрений с 10,3 миллиона тонн в пересчете на чистый азот в 1980 году до 45,2 миллиона тонн в 2010, но рекорд — 48,6 миллиона тонн — был поставлен в 2009 году, ознаменовав практически пятикратное увеличение за три десятилетия; производство фосфатных удобрений при этом увеличилось примерно в 8 раз до 19 миллионов тонн. Разность в скорости роста производства азотных и фосфатных удобрений объясняется попытками Китая уйти от чрезмерного использования азота и обеспечить более сбалансированное соотношение азота, фосфора и калия в общем объеме удобрений, добиваясь таким образом большей эффективности их применения. В результате Китай закупает рекордные количества калия у Канады. Китай также стал важным импортером материалов для вторичной переработки, при этом ведущим поставщиком являются США. В 2010 году Китай импортировал почти 25 миллионов тонн макулатуры, в основном из США (Magnaghi, 2011). Аналогичным образом в 2010 году Китай купил почти 6 Мт стального лома, заняв третье место в мире после Турции и Южной Кореи (WSA, 2013) по его импорту; ведущим поставщиком опять же стали США. Эту торговлю определенно можно считать весьма примечательным показателем изменений в судьбе этих стран, ведь крупнейшая и богатейшая экономика мира становится главным поставщиком вторичного сырья для второй экономики, которая находится на стадии быстрого роста. В 2011 году США экспортировали в Китай отходов и лома (материалы 910-й категории по Североамериканской промышленной классификации) на более чем 11 миллиардов долларов. Это меньше, чем экспорт транспортного оборудования или сельскохозяйственной продукции, но превосходит экспорт всего неэлектрического оборудования, а также в пять раз превышает поставки всего электрического оборудования и приборов (Smil, 2013). Китай также является крупнейшим импортером отходов пластмасс и электроники. Схожий анализ главных потоков материалов на уровне государств можно дать и в отношении других ведущих экономик; проще всего это сделать для Японии, так как в ней ведется отличная статистика, а за последние годы было опубликовано множество различных исследований потоков отдельных материалов в этой стране. Наиболее примечательным можно назвать исследование (Krausmann и соавт., 2011), в котором на основе исторической статистики по Японии было прослежено использование материалов в этой стране с 1878 по 2005 год; запасы и потоки меди были проанализированы Теракадо и соавт. (Terakado и соавт., 2009) и Дайго и соавт. (Daigo и соавт., 2009); Дайго и соавт. (Daigo и соавт., 2010) также отследили движение хрома и никеля в составе нержавеющей стали; Курики и соавт. (Kuriki и соавт., 2010) проанализировали потенциал переработки металлов платиновой группы. Основные выводы этих исследований несложно резюмировать. Общая масса расходуемых материалов за 127 лет с 1878 по 2005 год увеличилась в 40 раз, причем прирост большей частью пришелся на 50-е и 60-е годы ХХ века, а основным источником стал импорт: зависимость Японии от импортируемого сырья становится еще более очевидной, если включить в анализ ископаемые виды топлива. Рост потребности в материалах после Второй мировой войны достиг пика во время первого раунда повышения цен на нефть, спровоцированного странами ОПЕК (1973–1974). После временного сокращения импорта топлива общее снабжение первичной энергией (ОCПЭ, TPES20) продолжило расти (хотя и медленнее), а вот спрос на металлические руды и нерудные полезные ископаемые стагнировал, а после 1990 года и вовсе стал снижаться. Япония остается богатой страной с точки зрения массового потребления в основном импортируемых материалов, однако после 1990-х сочетание таких факторов, как стареющее население, экономические спады и деиндустриализация, привело к сокращению импорта, стагнации или снижению расходов и уровня производства. Аналогичным образом кратко описывать ситуацию в других ведущих индустриализованных странах, общей чертой большей части которых является сильная зависимость от импорта важнейших материалов, было бы не так полезно, как обратиться к некоторым фундаментальным особенностям материальных потоков, их энергостоимости, а также воздействию материалов на окружающую среду. Я посвящу этому два отдельных пункта. В первом дам количественную оценку затрат топлива и электричества, связанных с сырьевыми и обработанными материалами, во втором представлю результаты показательных оценок жизненного цикла — относительно нового аналитического инструмента, цель которого – описать издержки, не являющихся капитальными или операционными.
Источник: Создание современного мира. Материалы и дематериализация. Глава 4.